
Смирнов А.А. Источник: "Служба 08"http://www.spravka08.ru/TextSection.aspx?sectionId=7402
По поводу современного мирового кризиса и финансовых афер, связанных с ним, существует огромное количество литературы. Но внятных ответов на вопросы, а что же, по сути, произошло, каковы глубинные причины происшедшего, что нас ждёт, и когда вся эта кутерьма закончится, как это ни прискорбно, — до сих пор нет. Такое ощущение, что политики, экономисты и всевозможные аналитики специально пытаются запутать людей, увести их подальше от сути происходящего, спрятать истину в океане противоречащих друг другу версий и глубокомысленных рассуждений.
В аналитике современного мирового кризиса можно выделить два ведущих направления. В рамках одного из них утверждается, что кризисы, как и природные явления (вроде приливов и отливов, или смены времён года), наступают с определённой периодичностью сами по себе. На сей счёт существует великое множество теорий, например, теория больших циклов нашего соотечественника Кондратьева или теория французского учёного Клемента Жюгляра, который утверждал, что кризисы наступают с цикличностью в 7–11 лет. Его современник, англичанин Уильямс Джевонс писал, что периодичность кризисов напрямую связана с появлением пятен на Солнце.
Второе направление связано с выявлением и исследованием финансово-экономических и политических факторов, ведущих к кризису. На их базе был сделан вывод о том, что основной причиной дестабилизации мировой экономики в новом тысячелетии выступила практика безудержного «печатания долларов» со стороны США, неэффективность современных способов нейтрализации «пустых денег», банковские спекуляции, а также ослабление контроля над этими процессами со стороны государства.
Всё это даёт определённую картину причин появления и особенностей течения мирового кризиса, но она выстроена с чрезмерной акцентировкой на финансово-экономические и политические факторы, без обращения к анализу глубинных, то есть «цивилизационных» основ кризиса. В связи с этим, мировое аналитическое сообщество выявляет только те причины, которые лежат в зоне непосредственной видимости, но не может пройти дальше, хотя ещё Аристотель призывал к выявлению причин не только «ближайшего» плана, но и самих «первопричин».
Всё это закономерно ведёт к тому, что в обществе нарастает недовольство теми выводами и прогнозами, которые делает современная наука по поводу причин и способов разрешения мирового кризиса. Не случайно, что в одной из передач программы «Academia» (показанной в ноябре 2010 года по каналу «Культура»), посвящённой проблемам экономической науки, директор Института мировой экономики РАН, доктор экономических наук, профессор Р.С. Гринберг констатировал, что сегодня наблюдается серьёзный кризис экономической теории, которая не может вскрыть глубинные причины современного финансово-экономического кризиса и дать достаточно надёжный прогноз на будущее. В связи с этим престиж экономической науки пошатнулся. Нужна новая теория мировой экономики.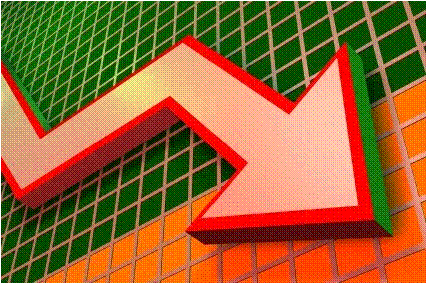 Уважаемый профессор отметил, что все экономисты сейчас разбились на два больших лагеря: одни утверждают, что в ближайшем будущем грядёт вторая волна кризиса, другие уверены, что этого не произойдёт. Сам Руслан Семёнович не может сказать, что ждёт мировую экономику, но он верит, что второй волны кризиса не будет. Будет всего лишь продолжительная стагнация, введут ограничители для финансового спекулятивного капитала. Для преодоления стагнации нужно стимулировать экономику и покупательский спрос, но это всегда приводит к дефициту бюджета. Поэтому здесь необходимо найти оптимальную грань, но как её найти, никто пока не знает.
Уважаемый профессор отметил, что все экономисты сейчас разбились на два больших лагеря: одни утверждают, что в ближайшем будущем грядёт вторая волна кризиса, другие уверены, что этого не произойдёт. Сам Руслан Семёнович не может сказать, что ждёт мировую экономику, но он верит, что второй волны кризиса не будет. Будет всего лишь продолжительная стагнация, введут ограничители для финансового спекулятивного капитала. Для преодоления стагнации нужно стимулировать экономику и покупательский спрос, но это всегда приводит к дефициту бюджета. Поэтому здесь необходимо найти оптимальную грань, но как её найти, никто пока не знает.
С его точки зрения, в экономическом отношении современный мир представляет собой одно целое. Мировая экономика нуждается для решения своих глобальных проблем в едином мировом правительстве, так как национальные правительства не способны их решить. Хотя, как говорит Гринберг, пока для этого нет никаких шансов, так как этому противостоит эгоизм наций. По его мнению, лучше всего в этом направлении действует нынешний президент США Барак Обама.
В его версии весьма отчётливо вырисовывается (приятная для любого космополитического сознания) картина, хотя и не очень понятно, почему именно «мировое правительство» (надо понимать, что из США) будет способно удержать мир от спекуляций и кризисов и решить глобальные проблемы мировой экономики? Ведь, согласно самому Гринбергу, включение в человеческую мотивацию альтруистического служения обществу в наше время нереально и утопично, так как ещё сам Адам Смит постулировал, что всякий человек, в том числе и государственный чиновник, — эгоист, который только и думает что о своём благе. Как видим, поиск глубинных основ кризиса свёлся к простому постулату об эгоистической природе человека.
Понятно, что использование таких мировоззренческих стереотипов не может вести к познанию «первопричин» кризиса и к выявлению неслучайных путей выхода из него. Поэтому антикризисные мероприятия, предпринимаемые в России и за рубежом, приносят лишь временные тактические результаты и не имеют перспективы решения стратегических проблем современной цивилизации.
Для выявления «первопричин» того или иного явления нужны принципиально новые средства анализа. И такие средства были разработаны, в частности, в рамках российского межрегионального научно-методологического сообщества. Оно вот уже более тридцати лет действует под руководством доктора психологических наук, профессора, действительного члена Международной академии акмеологических наук, руководителя методологического центра «Цивилизационные стратегии», автора более 300 научных работ, — Олега Сергеевича Анисимова.
В 2009-2011 годах Новгородская группа методологов неоднократно проводила межрегиональные методологические семинары (на базе аутсорсинговой компании «Служба 08») с использованием новых средств анализа. Тематически семинары были посвящены: исследованию сущности мирового финансово-экономического кризиса; анализу реформ П.А. Столыпина, И.В. Сталина и либеральных преобразований конца 90-х годов; исследованию переломных точек («точек бифуркации») в истории России. В связи с этим редакция журнала «Служба 08. Великий Новгород» решила открыть для своих читателей новую рубрику «История финансово-экономических кризисов и афер: методологический анализ». Рубрика будет состоять из целого ряда очерков, посвящённых исторической реконструкции и анализу тех или иных экономических и финансовых кризисов (и связанных с ними афер), с помощью методологических средств.
Как отмечают исследователи, в нынешнем кризисе нет чего-либо принципиально нового или дьявольского. Если вспомнить историю — он лишь слабое подобие минувших кризисов, коих и в мировой, а уж тем более в российской истории насчитывалось с избытком. Та же Великая депрессия 1929 года, о которой наша широкая общественность знает прискорбно мало. Вспыхнувший тогда голод, о чём сейчас очень не любят вспоминать на Западе, унёс, в общей сложности, пять миллионов жизней. Или — забытый промышленный кризис на рубеже
XIX–XX веков, когда на всех российских заводах пришлось сократить почти половину рабочих.
Кризиса не нужно панически бояться, существует много примеров, когда он не только не ослабил страну, а напротив, сделал её ещё сильнее и богаче. Нужно лишь научиться выявлять «первопричины» кризиса и уметь устранять их предельно неслучайным образом. Может быть, и этот кризис окажется для России той переломной вехой, за которой для нас начнётся новая и более светлая страница истории.
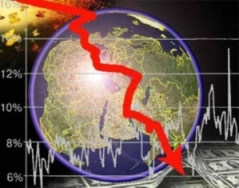 ОЧЕРК ПЕРВЫЙ. «ТЮЛЬПАННАЯ ЛИХОРАДКА» В ГОЛЛАНДИИ
ОЧЕРК ПЕРВЫЙ. «ТЮЛЬПАННАЯ ЛИХОРАДКА» В ГОЛЛАНДИИ
Итак, перейдём к исторической реконструкции и методологическому анализу наиболее ярких финансово-экономических кризисов. И первым в их ряду хотелось бы рассмотреть кризис, поразивший в XVII веке самую развитую страну того времени — Нидерланды (современная Голландия). В историю он вошёл под именем «Тюльпанной лихорадки».
Буржуазная революция, в ходе которой страна получила независимость от испанцев, привела к невиданному расцвету Нидерландов. В ходе неё нидерландцы отстаивали буржуазное освобождение от феодальных оков. Наряду с экономическими они выставляли и чисто политические требования. Голландцы добивались свободы совести, права населения страны выбирать себе веру независимо от религии, которой придерживался её государь, прекращения произвольных по приказу короля или инквизиции арестов, то есть свободы личности, права народа уплачивать только те налоги, в голосовании которых он участвует, одним словом, они добивались прав политического самоуправления. В истории Европы такие требования формулировались впервые.
В XVII столетии для Соединённых провинций наступил настоящий «Золотой век», последние отблески которого так очаровали нашего Царя Петра I, что он хотел сделать из России подобие Голландии, а из новой столицы страны, — Санкт-Петербурга, — пытался создать столь любезный его сердцу второй Амстердам.
В сравнении с остальной Европой маленькие Соединённые провинции представали перед современниками сверхурбанизированными и сверхорганизованными территориями. Стоило ли этому удивляться? Крошечная даже по европейским меркам страна, с небольшой площадью пригодных для сельского хозяйства земель, отличалась самой высокой в Европе плотностью населения. Половина населения Голландии жила в городах — это был европейский рекорд, продержавшийся до середины XIX века. Отсюда и отлично развитая торговля, регулярность связей, необходимость полной мерой использовать морские пути, реки, каналы и сухопутные дороги, которые, как писали изумлённые путешественники, кишели кораблями, лодками, баржами, повозками и людьми.
В Нидерландах были хорошо развиты земледелие и животноводство. Поскольку страна страдала от нехватки земли, то сельское хозяйство было обречено делать ставку на высокую производительность. Животных кормили лучше, чем в других странах. Коровы были очень продуктивными и давали до трёх вёдер молока в день. Земледелие обратилось к огородничеству, изобретало научные способы ротации культур и получало, благодаря удобрениям, лучшие урожаи, чем в других местах. Иностранцы отмечали зажиточность сельского населения, что резко контрастировало с остальной Европой. Жан Лабрюйер в 1688 году в своей знаменитой книге «Характеры» так писал о французских крестьянах: «Порою на полях мы видим каких-то диких животных мужского и женского пола: грязные, землисто-бледные, спалённые солнцем, они склоняются к земле, копая и перекапывая её с несокрушимым упорством; они наделены, однако, членораздельной речью и, выпрямляясь, являют нашим глазам человеческий облик; это и в самом деле люди. На ночь они прячутся в логова, где утоляют голод ржаным хлебом, водой и кореньями. Они избавляют других людей от необходимости пахать, сеять и снимать урожай и заслуживают этим право не остаться без хлеба, который посеяли».
Совсем другая картина наблюдалась в Голландии. Очевидцы отмечали, что в сельской местности на каждом шагу встречаются богатые деревенские жители: они, как правило, одеты в чёрную, практичную одежду, но «жёны их увешаны серебром, а пальцы их унизаны золотыми перстнями». И стол голландских селян качественно отличался от стола крестьян других европейских стран: «К середине ноября добрые домохозяева покупают быка или половину его сообразно величине своего семейства, какового быка они засаливают и коптят… и едят с салатом с маслом. Каждое воскресенье они вынимают большой кусок говядины из засольной бочки, приготавливают его, делают из него несколько трапез. Сказанный холодный кусок обходит стол вместе с несколькими кусками варёного мяса, с молоком или какими-нибудь овощами…»
В Голландии и началась та земледельческая революция, которая затем завладеет Англией и другими странами. Придя в контакт с многочисленными городами, нидерландские деревни не замедлили коммерциализироваться и, как города, жить за счёт внешнего рынка. Крупные деревни делались сборными пунктами сельскохозяйственной и ремесленной продукции, порой со своим рынком или даже своей ярмаркой. Купцы, в свою очередь, часто обращались непосредственно к сельским производителям, тем самым втягивая их в товарно-денежные отношения, заставляя выйти из вековой изолированности. Крестьяне осваивали и различные ремёсла, к примеру, окрашивание шерстяных тканей, завозимых из Англии. Окрашенные ткани стоили в несколько раз дороже, чем простые, что давало большую прибыль. Эти процессы и позволили исследователю становления и развития капиталистических отношений в Европе, Яну де Фрису, сделать вывод о том, что в Голландии капитализм произрастал прямо из её почвы.
В Нидерландах были широко развиты китобойный промысел и лов сельди. К примеру, в 1697 году из портов Голландии на ловлю китов отправилось 128 кораблей, которые возвратились в свои гавани, добыв 1255 этих животных. Из китов добывали тонны жира (для изготовления мыла, освещения, обработки сукна) и центнеры китового уса. Прибыль от 1255 туш составила 2 495 320 гульденов. Для того времени это была колоссальная сумма.
Однако эти богатства мало что значили в сравнении с ловом сельди на Доггер-банке вдоль английского побережья. На протяжении первой половины XVII века цифры были фантастическими: сельдь ловили 1500 крупных рыболовецких судов, достаточно просторных, чтобы позволить на борту разделку, засолку и укладку рыбы в бочки, за которыми на места лова приходили другие суда, доставлявшие эту продукцию в порты. На этих 1500 сельдяных судах («буссах») находилось 12 тысяч рыбаков и около 300 тысяч бочек рыбы. Копчёная и солёная сельдь, продававшаяся по всей Европе, была «золотой жилой» Голландии. Современник Питер де ла Кур считал, что голландская торговля «уменьшилась бы вполовину, ежели бы у неё отняли торговлю рыбой…»
Голландия имела самый большой в мире торговый флот и сумела создать огромную колониальную империю. Она одержала ряд военных побед над своими политическими противниками. Её военные корабли, под командованием знаменитого адмирала Михаэля Рюйтера, заходили в устье Темзы, поднимались по Медуэй до Чатема и громили английские склады, запасы пороха и провианта, захватывали и сжигали суда противника. В ней наблюдался невиданный для того времени расцвет торговли, промышленности и сельского хозяйства. Европа была первым условием нидерландского величия. Вторым его условием был весь мир. Голландия экономически завоевала торговую Европу — и вполне логично, что мир был отдан ей почти что в придачу.
В средние века Балтика была своего рода Америкой, до которой рукой подать. И вот, начиная с XV века, нидерландские корабли, возившие соль и рыбу, составили там мощнейшую конкуренцию ганзейцам. В конце концов они выиграли эту торговую войну у Ганзы. Успех был огромен: в 1560 году нидерландцы стянули к себе 70% тяжёлых перевозок по Балтийскому морю. По мнению Астрид Фриис, поток сырья, приходившего из стран Балтийского бассейна, был основным двигателем экономических и политических перемен XVII века. Захватив господство на Балтике, голландцы через некоторое время восторжествовали в Португалии и Испании. Со второй половины XVI века их корабли обеспечивали самую большую долю морских перевозок между Северной Европой и портами Португалии и Испании. Вскоре они будут перевозить пять шестых тех товаров, которыми обменивались Пиренейский полуостров и Северная Атлантика: пшеницы, ржи, и промышленных изделий Северной Европы (которые Испания реэкспортировала в Америку) в обмен на соль, растительное масло, шерсть, вино и особенно на серебро, получаемое испанцами с богатейших приисков Нового Света. С 1521 года и до конца XVI века Испания вывезла из покорённой Америки 7,4 тысячи тонн серебра, на этом испанском серебре и выросло могущество Голландии.
В общем, широкий взлёт Голландии вытекал из обеспеченной кораблями и купцами связи между северным полюсом европейской экономики и торговли — Балтийским морем и фламандской, немецкой и французской промышленностью — и южным полюсом, которым была Испания (великий выход на Америку). Посредством голландских купцов Испания получала сырьё и готовые изделия из других европейских стран, а голландцы (за это посредничество) обеспечивали себе оплату в наличных деньгах. И эти деньги станут для Голландии самым эффективным средством для вскрытия рынков других стран и устранения конкуренции с их стороны.
В 90-е годы XVI века в связи с неурожаем зерновых в Средиземноморье голландские парусники прошли Гибралтарским проливом и появились на главных магистралях Средиземного моря, занимаясь, за счёт итальянских городов, выгодным каботажем по перевозке зерна. Утверждают, что проникнуть во Внутреннее море им помогли еврейские купцы. Вскоре их приняли все гавани Средиземного моря, и, наконец, порты Леванта и Стамбула. Нидерланды нашли в богатом Внутреннем море золотую жилу, которую они сумели разработать и которая так же, как и торговая деятельность в Атлантике, положила начало их экономическому и политическому подъёму и позволила им стать центром европейского экономического мира. Долговременное удержание европейского экономического мира, конечно, предполагало захват его торговли на дальние расстояния, следовательно, захват Америки и Азии. Америка, атакованная с большим опозданием, ускользнула от крохотного противника, но на дальневосточную арену, в царство перца и пряностей, снадобий, жемчуга и шёлка, голландцы выступили в полном блеске и силе и сумели, вступив в беспощадную войну с конкурентами, выкроить себе львиную долю. Там они и завершили завоевание торгового, а вслед за ним и экономического господства над всем миром.
Долговременное удержание европейского экономического мира, конечно, предполагало захват его торговли на дальние расстояния, следовательно, захват Америки и Азии. Америка, атакованная с большим опозданием, ускользнула от крохотного противника, но на дальневосточную арену, в царство перца и пряностей, снадобий, жемчуга и шёлка, голландцы выступили в полном блеске и силе и сумели, вступив в беспощадную войну с конкурентами, выкроить себе львиную долю. Там они и завершили завоевание торгового, а вслед за ним и экономического господства над всем миром.
В религиозном отношении Соединённые провинции (их было семь) являли весьма пёструю картину. Во второй половине XVII в Голландии преобладали представители протестантских конфессий. Постоянно возникали новые религиозные секты. К тому же на территорию страны массами прибывали представители самых экзотических религий. В любой другой европейской стране того времени подобная религиозная мозаика привела бы к свирепой гражданской войне. К примеру, во Франции с 1562 по 1629 год было около десяти религиозных войн между католиками и гугенотами, сопровождавшихся страшными жестокостями.
5 июня 1562 года французские католики, объединившись с наёмниками из Италии, напали на город Оранж. Проживавшие в городе католики активно поддержали своих собратьев по вере и помогли им проникнуть за его стены. Победители были беспощадны: солдаты убивали гугенотов кинжалами, сажали на кол, поджаривали на медленном огне, распиливали свои жертвы на части. Они вышвыривали на улицы немощных старцев, насиловали женщин, а потом вешали на воротах и окнах их собственных домов, убивали младенцев, разбивая им головы о стены, резали ножами детей постарше. Они не пощадили даже католиков, оказавших им помощь при захвате города, ибо, по их мнению, разница между горожанами-католиками и гугенотами была невелика. Гарнизон Оранжа был вырезан до последнего человека, а сам город подожжён. Сотни домов, в том числе и дом католического епископа, стали добычей беспощадного огня.
Во время «Варфоломеевской ночи» в Париже (24 августа 1572 года) католики убили от 3 до 9 тысяч гугенотов, а затем в Лионе, Руане, Труа и других городах уничтожили ещё 30 тысяч человек. Испанский посол так описывал события этой страшной ночи в письме к королю Филиппу II: «Когда я это пишу, они убивают всех, они сдирают с них одежду, волочат по улицам, грабят их дома, не давая пощады даже детям. Да будет благословенен Господь, обративший французских принцев на путь служения его делу! Да вдохновит он их сердца на продолжение того, что они начали!». Когда Филипп II получил это известие, то он, как говорят, впервые в жизни радостно засмеялся. Кстати, за годы его царствования в Испанской империи по религиозным мотивам было уничтожено не менее ста тысяч человек. Парижская бойня потрясла Европу. Даже русский царь Иван Грозный, не входивший в число ведущих гуманистов XVI столетия, узнав об этих событиях, осудил их в письме к императору Максимилиану II.
Продолжение следует…